Гражданский процесс
Интеллектуальная собственность
Уголовное право. Уголовный процесс
Семейное право
Недвижимость и строительство
Вопросы жилищного права
Практика ЕСПЧ
Наследственное право
Due diligence – правовая
оценка инвестиционных рисков
оценка инвестиционных рисков
Банковское и финансовое право
Международное право
Корпоративное право
Юридическое сопровождение деятельности предприятий
Антимонопольное регулирование и контроль
НАША КОМАНДА
Основным видом деятельности компании является Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Также Некоммерческий Фонд: «Центр Правовой Защиты Интеллектуальной Собственности» работает еще по 5 направлениям.
Авторское право.
Смежные права: права исполнителей, права производителей фонограмы, права вещательных организаций.
Использование объектов интелектуальной собственностив в сети интернет. Защита чести, достоинства и деловой репутации.

Адвокат, заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Шмеркин отмечает, что российское заинтересованное лицо было уведомлено о разбирательствах в Ташкенте, решение вступило в законную силу, срок на приведение в исполнение соблюден и, наконец, нет и не было аналогичного разбирательства в российских судах.
Исполнили дружеский долг Кубанский арбитраж поддержал решение судов Узбекистана в международном споре Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение в пользу ташкентской компании Stone Brick об

В том, что механизм лицензирования издательств будет эффективно работать в текущих реалиях, когда большое развитие получил интернет, а книги могут выходить и без непосредственного участия издательств, есть большие сомнения, считает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.
Власти обсуждают возможный возврат к лицензированию книжных издательств В эпоху интернета этот механизм регулирования вряд ли будет эффективно работать, говорят эксперты Дмитрий ИгнатьевМария Истомина В

Каменные палаты купца Щербакова перейдут к новому хозяину. Зачем властям понадобились торги, объясняет адвокат коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.
На торги выставляется столичное здание XVIII века на Бакунинской улице в Басманном районе. Что известно о доме с богатым прошлым? Начальная цена каменных палат купца Щербакова —

ЭНТИН В.Л. — РБК: РОСКОМНАДЗОР ПРОВЕРИТ РОДСТВЕННИКОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РОССИЙСКИХ СМИ
Роскомнадзор может получить право на изучение родственных связей владельцев российских СМИ. В ст. 19.1 закона «О СМИ» ничего не говорится о том, что граждане России,

ВЛАДИМИР ЭНТИН — РБК О СООТВЕТСТВИИ РАЗМЕРОВ «РЕКЛАМНЫХ» ИЗОБРАЖЕНИЙ НАСТОЯЩИМ
«Макдоналдс» уменьшил размер бургеров «Вестерн Гурмэ» в рекламе после предписания ФАС. Эксперты надзорного ведомства пришли к выводу, что сеть нарушила Закон о рекламе, изобразив бутерброд
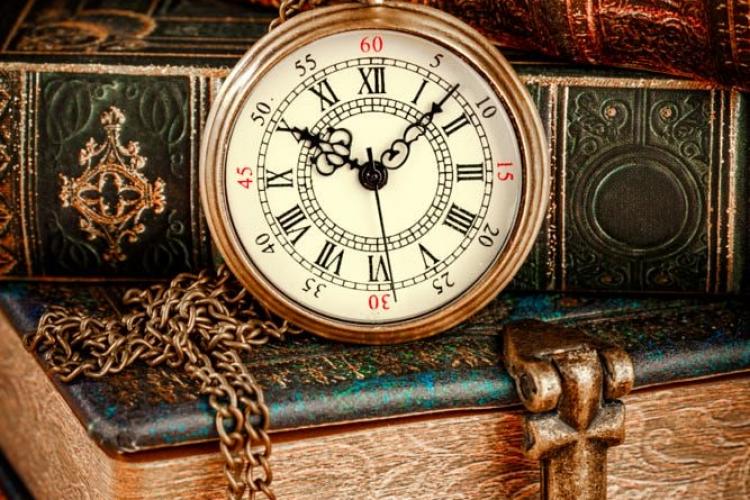
В. ЭНТИН — ЭХО МОСКВЫ: ТРАГЕДИЯ С ПАССАЖИРСКИМ САМОЛЕТОМ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
В. Энтин― Первое, трагедия с пассажирским самолетом касается каждого из нас, каждый из нас бывает пассажиром, это самая близкая вещь, которая только может быть. Для

Александр Малахов — РБК «В России могут приводиться в исполнениесотни решений иностранных третейских судов и международных коммерческих арбитражей
На территории РФ могут приводиться в исполнение как решения международных коммерческих арбитражей, так и государственных судов.«Например, в сфере предпринимательской деятельности такая процедура регулируется главой 31

Алексей Клишин: мы столкнулись с массовым нарушением гражданских прав на Западе
«Мы впервые столкнулись с таким массовым нарушением гражданских прав, которое мы наблюдаем в западных странах – Европы, Америке. Существуют разные способы защиты, и это, прежде
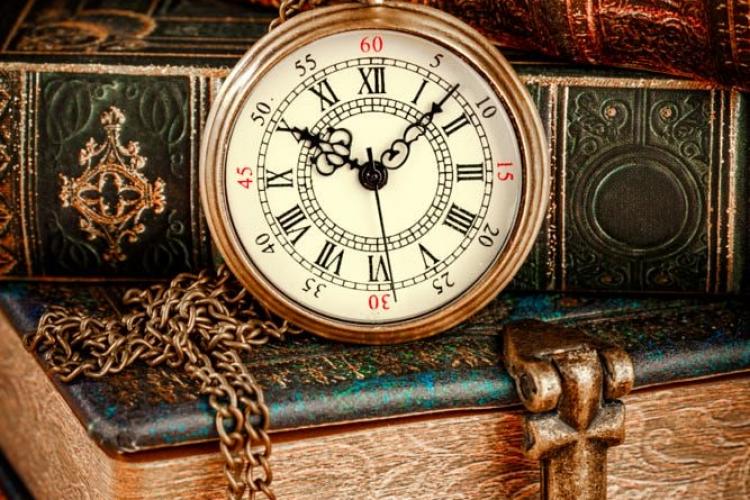
Кистерев Д.Д. Интеллектуальные права ребенка в Российской Федерации как элемент его правового статуса
Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2018. № 2. 150 УДК 347.78 – 053.5 Д. Д. Кистерев МКА «Клишин и Партнеры», г. Москва В статье рассматриваются интеллектуальные

